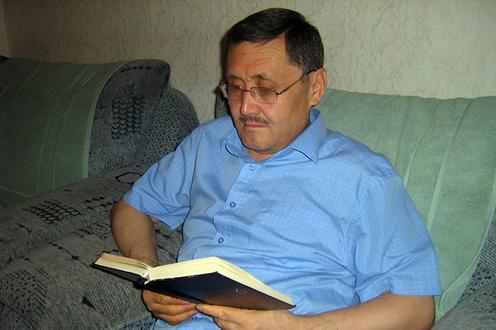Жизнь одного из самых интересных современных писателей Узбекистана Назара Эшонкула не слишком богата внешними событиями. Родился в 1962 году в селе Терсота (Камашинский район, Кашкадарьинская область), окончил журфак Ташкентского университета, на излете советской эпохи был принят в Союз писателей Узбекистана, затем пришел на телевидение, а в настоящее время работает заместителем директора и главным редактором «Узбектелефильма». Впрочем, все самое любопытное у писателя происходит на страницах его рассказов, повестей и романов.
Главные произведения Эшонкула: «Люди войны» (1989), «Человек, ведущий обезьяну» (2002), «Ветер неуловим» (2004), «Старая песня» (2006), «Запах мяты» (2008), «Цветы персиковые» (2012), «Гороглы» (2018). Помимо художественной прозы, публиковал он и книги эссе, посвященные творчеству великих представителей национальной и мировой литературы и искусства, — «От меня до меня» (2014), «Философия творчества: От меня до меня-2» (2018).
Как провинциальный кишлак вырастает до размеров вселенной, о чем мечтает писатель постсоветского пространства в постиндустриальную эпоху, почему проза не может обойтись без поэзии и как изжить национальную травму, нанесенную войной задолго до твоего рождения, — об этом и многом другом с Назаром Эшонкулом беседовал Санджар Янышев.
— Назар-ака, как обычно проходит ваш день?
— Творческий человек сегодня вынужден раздваиваться, как герои фильма «Персона» Ингмара Бергмана. Я не исключение. Встаю обычно в 6 утра. После физической разминки работаю на себя-писателя. Потом превращаюсь в «персону» и иду на работу. Это продолжается до 7-8 вечера. Затем на пару часов опять превращаюсь в Назара Эшонкула. Естественно, в выходные дни меня последнего значительно больше. Главное в такой ситуации — удерживать равновесие между двумя этими людьми. Это крайне важно для писателя, живущего в обществе, в котором почти не читают книг. Если творческая личность перевешивает, то возникают проблемы с самообеспечением, если же пересиливает социальная обреченность, то она начинает вытеснять творческую личность. Подобная поляризованность, когда ты вынужден блюсти неписаное равновесие, является уделом почти всех писателей на постсоветском пространстве. Наши страны не доросли пока до того уровня, когда творческая мысль превращается в хорошо продаваемый товар.
— Ну да, необходимо кормить детей, потом женить их (выдавать замуж) и прочее. В советское время было иначе: член Союза писателей мог жить за счет издаваемых книг, он мог также переводить произведения классиков на родной язык и не нуждаться в других заработках… Хотели бы туда вернуться?
— Какой писатель откажется, если его освободить от нужды, целыми днями сидеть на заднице и писать, писать? (Смеется.) Такая возможность избавила бы его от необходимости продавать свой талант, свои принципы тем, кто бесконечно от этих принципов далек. Однако эта возможность не должна оборачиваться тяжким бременем (писать — «и никаких гвоздей!»). Художник может творить, только будучи абсолютно свободным. Собственно, творчество вообще рождается, как мне кажется, из желания быть свободным в космическом смысле этого слова.
— Есть множество прозаиков, начинавших свой путь как поэты, — и нет почти ни одного поэта, начинавшего в качестве прозаика. Насколько это утверждение верно для вас?
— Я знаю не только прозаиков, но и литературоведов, которые в детстве сочиняли неплохие стихи. Наверное, это объясняется природой поэзии. Говорят, поэзия воспитывает чувства, а проза — мышление. Началом любого стихотворения является прежде всего эмоция; в детстве яркие переживания переполняют душу. Поэтому в раннем возрасте стихи пишут даже те, кто в зрелости книжку стихов и в руки не возьмет... А проза гармонизирует душу и разум, по этой же причине она немножко «тяжеловата» для детской натуры. И человек, начавший с прозы, скорее всего, так прозаиком и помрет. (Смеется.)
— Какие основные направления в современной узбекской прозе вы можете выделить? Существуют ли какие-нибудь «школы», литературные группы и прочее в том же роде?
— Узбекская литература является неотъемлемой частью мировой литературы, поэтому все достижения и недостатки последней в том или ином виде проявляются и у нас. В некоторых случаях — в виде резкой риторики, в других — в форме, эксплуатирующей национальный колорит. Но есть авторы, которые стремятся не отставать от мировых тенденций, — как интеллектуально, так и по части эксперимента. В ХХ веке, возможно, и существовали какие-то школы, но они не сильно друг от друга отличались: все они следовали неизменно традиционным отношениям с действительностью.
— Вы имеете в виду азиатский вариант так называемого соцреализма?
— Нет. Я говорю в первую очередь об отсутствии литературной отваги. Мне кажется, в эти годы узбекская проза так и не смогла выбраться за рамки строгих литературных канонов.
— Каноны в данном случае — это форма повествования с линейным временем, с положительным главным героем, с выхолощенными языковыми средствами?..
— Можно и так сказать. Дело в том, что в первые семьдесят лет ХХ века в Узбекистане были написаны тысячи произведений, стилистически не отличимых друг от друга. Если собрать их вместе, то можно под завязку забить библиотеку любого университета. Однако большинство этих произведений не выдержало испытания временем. Бури и штормы, пережитые мировой литературой, как бы обошли стороной нашу национальную прозу. Трудно найти таких авторов, которых можно было бы поставить в один ряд с Платоновым или Трифоновым, не говоря уже о Пастернаке, Шолохове, Булгакове, гениально отразивших свое время и общественные мутации. Разве что Кадыри с Чулпаном...
В 1936 году незадолго до своего ареста и гибели Абдулхамид Сулейман Чулпан издал роман «Кеча ва кундуз» («Ночь и день»), в котором нарушил все мыслимые каноны. К сожалению, его голос долгие годы оставался неуслышанным, а эксперимент — неусвоенным… Однако в 70-80-е годы у нас начались попытки вывести поэзию и прозу на мировой уровень. Авторы старались скрестить национальный и зарубежный опыт. Узбекские прозаики по-прежнему ни в какие группы не объединялись, никаким западным течениям не присягали, однако все, что они писали, испытывало на себе влияние вот этого синтеза — вне зависимости от того, принадлежали они школе Абдуллы Кадыри или Абдуллы Каххара… Все они так или иначе исследовали экзистенциальную природу человека. На этом фоне появились даже постмодернисты, добившиеся определенных успехов.
Сегодняшняя узбекская проза старается изучать психологию современного человека в постиндустриальном мире; в этом ее новизна. По тому же пути идут молодые авторы — чему я искренне рад. Но вынужден признать и то, что у нас по-прежнему доминирует традиционный образ мышления, эксплуатирующий старые шаблоны.
— В чем, по-вашему, новизна ваших собственных произведений?
— Я думаю, на этот вопрос должны ответить литературоведы. Возможно, мои опыты как-то расширили представления о жанре рассказа…
— Спрошу иначе. Есть ли у вас непосредственные предшественники в мировой литературе?
— Не могу сказать, что я ближе к какому-то конкретному писателю, являюсь чьим-то последователем, принадлежу какой-нибудь школе или течению. Читаю произведения и традиционные, и модернистские, и постмодернистские — главное, чтоб было талантливо написано. У каждого поколения своя техника, своя ритмика, свое художественное кредо. То, что писатель пишет, зависит от того, как он мыслит и как воспринимает окружающий мир. В этом смысле мы, поколение 80-х, являемся «продуктами» эпохи национального и демократического возрождения; в том, что мы писали, первичным является стремление к духу частной и общечеловеческой свободы.
Думаю, что любовь к творчеству мне привили произведения Шукура Холмирзаева, Мурада Мухаммада-Доста, Хуршида Дустмухаммада, Ахмада Азама, Алима Атаханова. Из мировой литературы до сих пор перечитываю (и всякий раз открываю что-то новое) романы и рассказы Достоевского, Кафки, Фолкнера, Гессе, Кортасара, Борхеса, Онетти. Эти писатели оказали на меня огромное влияние, они убедили меня в том, что я смогу сделать что-то стоящее не в поэзии, а именно в прозе.
Первую свою повесть — «Люди войны» — я написал в 1984 году. Она ценна тем, что «уберегла» меня от судьбы поэта. Прежде я писал только стихи, не очень удачные…
— Что же послужило толчком к выбору пути писателя-прозаика?..
— Воспоминания моей бабушки. Ее муж — мой дедушка — пропал без вести во время Второй мировой войны, и она осталась вдовой с двумя детьми на руках. Ключевым моментом в ее рассказе была история одного дальнего родственника, который по возвращении домой с войны застал свою жену в близкой связи с председателем колхоза, после чего бросил все и ушел из дома. Судьба этого человека произвела на меня огромное впечатление. Стихов я больше никогда не писал.
— Какова доля вымысла в ваших произведениях?
— На самом деле я пишу о реальных событиях и человеческих переживаниях. Только стараюсь показать или описать все это с того ракурса, который другие не видят или на который не обращают внимания. Искать корни художественного вымысла в реальной жизни — дело неблагодарное. Реальность должна встать во весь рост в воображении читателя — через испытанные им эмоции. Литература вообще является искусством обмана.
— Терсота и терсотинцы… Я правильно понимаю, что вы пишете свой вариант фолкнеровской Йокнапатофы, то есть сагу с постоянными персонажами, переживающими в одном месте разные времена?
— Да, все так: в большинстве моих произведений события происходят в селе Терсота. Для меня это не только географическое название, но и литературно обжитый микрокосмос. Вообще, Фолкнер — мой любимый писатель. Но первым свою Йокнапатофу в узбекской литературе создал Мурад Мухаммад-Дост. В мир Фолкнера я пришел через Галатепу Мухаммад-Доста.
— Что означает «Терсота»?
— Это название кишлака, оно переводится как «речка, текущая наоборот». Есть вторая версия происхождения: от «терс» — «упрямый человек» — плюс «ота» («отец»). Возможно, это дань памяти некоего святого человека, когда-то уединенно жившего в этом месте.
— В начале повести «Люди войны» упоминается жена Янгибая-счетовода «из рода рабов». Как понимать это определение?
— Наш кишлак подчинялся Бухарскому эмирату. Рабство в эмирате было отменено в конце XIX в. До этого рабы жили в отдельном, соседнем с нашим, кишлаке. С тех пор сохранилось его название: «Кишлак рабов».
— Вы описываете бытовые истории, однако помещаете их в контекст иных исторических эпох. Это боль неизжитых травм (опыты гражданской и Великой Отечественной до сих пор не усвоены как следует) или поиск «легендарной» натуры, отличной от чересчур близкой и оттого мелкой, суетной современности?
— Действительно, в произведениях восьмидесятых-девяностых годов («Люди войны», «Старинная песня», «Нельзя схватить ветер», «Култой») я писал о человеческих травмах. Я считал, что истинные качества нации проявляются через страдания. На самом деле так и есть. Если вглядеться в простого чабана, то и в нем можно увидеть горечь и боль всего человечества. Писателю остается все это найти, нащупать… Однако в поздних произведениях я старался описать морально-психологические трагедии, с которыми сталкивается наш современник. В частности, герой романа «Могила» не может доказать обществу, что он живой; впоследствии он принимает требование окружающей реальности и выбирает смерть… Мы живем в таком обществе, которое не стесняется убивать или калечить отдельную личность.
— Вы имеете в виду конкретное узбекистанское общество? Все-таки восточный и западный взгляды на отдельную личность сильно отличаются…
— Нет, я не имею в виду какое-то определенное общество или строй. Я говорю о личности в большом, высоком смысле этого слова; смысл этот понятен и на Западе, и на Востоке. Личность — это человек, который осознает себя, свое «я», свое человеческое достоинство, свою миссию — и тем самым противостоит всеобщему потребительству. Ему тяжело жить в любом обществе. А литература именно таких людей старается защищать.
— Чем, по-вашему, современная узбекская литература может быть интересна зарубежному читателю?
— Тем же, чем и любая другая: мысли, мечты нашего современника, его бессилие перед реальностью, неисполненные желания, душевная боль... Трагедия человека, все более отдаляющегося от своего Создателя... Особенно — вопрос о свободе воли, что встает во весь рост, например в романе Ахмада Азама «Рўё ёки Ғулистонга саёҳат» («Мираж, или Путешествие в страну цепей», 2011). В своей антиутопии Азам с оруэлловской иронией и отвагой высмеивает духовную, политическую и социальную жизнь постсоветских стран. Узбекские литературоведы до сих пор боятся подвергнуть это произведение анализу.
— Читаете ли вы стихи современных поэтов?
— Каждого человека, связавшего свою судьбу с художественным словом, поэзия как бы уберегает от превращения в оголтелого публициста или философа. Поэтому проза не развивается без поэзии, и писатель-прозаик должен время от времени обращаться к стихам.
Помимо узбекских поэтов, я читаю, например, американского британца Томаса Стернза Элиота; французов Стефана Малларме, Поля Элюара, Гийома Аполлинера, Эжена Гильвика; русских поэтов Александра Блока, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. В их стихах я ценю заботу о человеке, нестандартность языковых средств, защиту совестливости — редкое по нашим временам качество.
— Есть ли у вас братья и сестры?
— У меня четыре младших брата, старшая и младшая сестры — всего нас семеро.
— Насколько их судьба отличается от вашей?
— Один брат является фольклористом, еще один — преподаватель литературы. Остальные от литературы далеки.
— Кем были ваши родители?
— Мама была домохозяйкой. Отец — простой колхозник. Поскольку дедушка с войны не вернулся, то все тяготы жизни легли на плечи старшего сына — моего отца... Благодаря бабушке (образ Бийди-момо в «Людях войны» писался с нее) я знаю свой род до седьмого колена. Четвертым в этом ряду был дед моего деда Мирзакул-мулла; он и основал село Терсота, где я родился: там он построил первый дом. Это было примерно в 1880-1890 годах.
— Жив ли тот дом?
— Увы, в 80-е годы прошлого века дом был превращен в помещение для хранения соломы. Сейчас от него остались только стены и фундамент.
— Писатель должен путешествовать — или, согласно старинной китайской мудрости, достаточно сидеть на одном месте, и тогда весь мир сам пройдет перед твоими глазами?
— По-моему, все поэты и писатели следуют этой мудрости (смеется). О причине мы с вами говорили. Когда книга, которой писатель посвятил всю свою жизнь, оценивается ниже расходов издательства, он уже не думает о путешествии; он предпочитает «насиловать» свое воображение, не выходя за порог дома. В глазах общества он сумасшедший, пишущий книги, которые никто не читает. И гору, так и не пришедшую когда-то к Мухаммаду, он зовет в свою комнату с письменным столом.
Участники интервью выражают благодарность Фахриддину Низамову за коммуникативную помощь.
***
«Фергана» публикует отрывок из повести Назара Эшонкула «Люди войны» в переводе Санджара Янышева.
— …Когда подрасту, куплю себе ружье.
— Что с ним будешь делать?..
— Застрелю отца!
В начале декабря сорок четвертого в ненастный день, ровно через год после своей похоронки, вернулся с фронта Нормат. На войне он потерял одну ногу. Подобное давно стало привычным, поэтому никто не удивился его увечью. Последние три года это повторялось все чаще и чаще. Незадолго до Нормата мастер Пирназар с Верхнего Теракли вернулся без правой руки. А двумя годами раньше мулла Турды из-под Кургана вернулся одноглазым. Год назад Янгибай-счетовод въехал в свою деревню на каталке. Жена его из рода рабов месяца три горевала, потом как будто смирилась. Однако в начале лета она отправилась в Камаши, вернулась на грузовике и куда-то мужа увезла. Дней через десять появилась одна. Люди узнали, что она определила калеку в дом инвалидов. Глухонемой брат Янгибая в конце лета избил женщину до полусмерти. На второй день к полудню соседи нашли ее в коровнике всю в крови и без сознания.
Терсотинцам несчастье Нормата показалось мелочью в сравнении с судьбой Янгибая-счетовода. Всего-то ногу потерял, да и то лишь ступню, на месте которой теперь был протез, так что Нормат мог спокойно ходить, прихрамывая.
На следующий день в глинобитном доме с большой верандой отпраздновали возвращение. Зарезали козу, хоть и старую, но достаточно жирную. Аромат горячей шурпы стоял над соседними деревнями Олма и Супа.
Пришедшие на праздник односельчане вместо крепкого мужчины в расцвете лет, одного из первых джигитов Терсоты, за коренастую фигуру и внутреннюю силу прозванного когда-то пахлаваном(1) — даром что ни разу не участвовал в кураше(2), — увидели почти старика с повисшей кожей на месте упругих мышц, седыми висками и едва зарубцевавшимися ранами на лице, источающими едкий запах мази, — живого свидетеля далекой и близкой войны. Нужно было заново привыкать к человеку: к желчному цвету его лица, к пестрым пятнам за ушами, к качающейся на тонком стебле шеи голове.
Пришли все, кто остался в Терсоте, в основном старики и женщины, да еще дети, которые тут же начали во дворе свои шумные игры.
Местом была выбрана сперва холодная гостиная справа от входа, однако пришедшие старухи настояли на спальной комнате с печью.
— Мы и так знаем, что у Нормата есть гостиная. Посторонних тут нет. Вот эта нам по вкусу. Может, та комната и чище, и уютней, но здесь мы чувствуем себя лучше, — говорили они.
Комната с печью тоже оказалась вполне просторной. В нише у дальней стены были сложены замусоленные лоскутные одеяла, разноцветные овечьи покрывала, узорные войлочные ковры ручной работы. На покрытых штукатуркой стенах висели одно против другого прямоугольные сюзане: на первом — птица, антилопа, а также парень и девушка, между которыми была вышита ваза с веткой миндаля; на втором — гора с пасущимися ягнятами и весенние деревья в цвету. <…> Руки, вышивавшие эти сюзане, были очень умелыми: все девичьи грезы нашли тут свое отражение; глядя на них, нетрудно было догадаться, что это свадебное приданое.
Нормата, как уважаемого ветерана войны, поместили в глубине по центру; подперев правой здоровой ногой левую искусственную, он лежал на трех валиках. С двух сторон от него сидели, полулежа или прислонившись к стене, старики; они перебрасывались с Норматом дежурными фразами. Старухи возле печи, бойко между собой тараторя, не забывали прислушиваться и к беседе мужчин: те из озорства их иногда пощипывали, старухи же то напускали на себя ложную стыдливость, то беззубо смеялись, мол, «пропади ты пропадом, бесстыдник!»; сами тем временем только поближе придвигались у мужскому кругу.
Женщины пришли сюда, кажется, затем лишь, чтобы поболтать или, как обычно, на чей-нибудь счет посплетничать. Иногда, изображая радость или негодование, они кривили лица, играли бровями, теребили воротник платья; чмокая краем рта, делали вид, что удивлены.
Во дворе лязгала посуда; поверх детского гомона («Не считово, не считово, бросай еще!») — резко звучал окрик женщины, видимо, адресованный дочери-подростку: «Йе! Вместо того чтоб успокоить брата, сама к ним лезешь?..»; и тут же — веселый хрип Шарифа-бригадира, не то поручение, не то замечание какому-то парню: «Ты меня не понял? Отец твой где?.. Смотри же, дочку у меня потом не проси!» Казалось, что все разом забыли о том, зачем сюда пришли, или стараются забыть. Нормат же молча смотрел односельчанам в лица; он явно чем-то терзался или чего-то стеснялся. Лежать вот так, вытянувшись во весь рост перед гостями, неприлично; он это понимал и в какой-то момент попытался сесть, как все мужчины, — сложив ноги под собой, — однако протез все-таки мешал. Нормат снова растянулся и погрустнел, увидев на лицах односельчан признаки сочувствия. Он вспомнил то унижение, которое испытал, вдруг оказавшись одноногим. Наблюдая за женой, Нормат тайно любовался: красота Анзират за минувшие годы нисколько не потускнела. Вспоминал, как всю прошлую ночь она плакала, стукая в его грудь слабым кулачком. Он искал в ней последствия трехлетней разлуки, но видел только скованность и понурость.
Больше всего ему не нравилась вот эта ее понурость…
— В доме боритесь, в доме! — весело кричал во дворе Шариф-бригадир. — Эй, безотцовщина, вам говорю. Покажите дяде Нормату, чтó вы умеете! Ну-ка, идите сюда…
Шариф ввел в комнату двух мальчишек лет десяти-одиннадцати. На одном был старый полосатый чапан(3) и ушанка из молодой бараньей шкуры, на втором — черный чапан из сатина и сизая солдатская шапка, по-видимому, отцовская.
Оба тяжело дышали, оба сильно смущались, глядя на смущенного Нормата.
— Палван-ака(4), благословите их, хотят побороться, хотят идти по вашим стопам, — сказал Шариф, подталкивая мальчиков к середине комнаты. — Скатерть сверните, скатерть! Зубай-байбича(5), почему мешкаете? Э, сверните, ничего с ней не будет… Пусть молодые батыры(6) себя покажут…
Нормат вспомнил свадьбы, игравшиеся в деревнях, далеких и близких; они всегда начинались с мальчишеских состязаний… Теперь все это казалось милой древностью.
Юные бойцы, оценив знакомую публику, ободрились и, словно взъерошенные боевые петухи, стали кружиться по комнате.
— А ну! — вскричал Келдияр-супи(7), сидевший напротив Нормата; мальчик в солдатской шапке был его сын. — Хлеб сегодня кушал? Смотри, ночью сам буду спать с твоей мамой!
Все сидевшие встретили эти слова громким смехом и улюлюканьем.
— Оввв! — замысловато удивилась смуглая женщина лет тридцати пяти, та, которую Шариф назвал Зубай-байбича. — Одну ночь поспит с мамой — потом совсем прилипнет. Ему там медом намазано…
Мальчик свирепо посмотрел на женщину и кинулся в бой: схватил противника за пояс, затем сильно толкнул. От внезапной атаки тот едва удержался на ногах. Сын Кельдияра этим воспользовался и стал валить соперника на пол. Шариф разнял борцов; и вот уже снова, сцепившись руками, они кружатся на тесном пятачке.
— Ну же, ату! — крикнул мулла Саттар, прежде дремавший, но оживший с началом поединка. Несмотря на свои изрядные пятьдесят, он был еще достаточно крепок. Недавно взял в жены оставшуюся сиротой пятнадцатилетнюю внучку старухи Тинык (дал двух коз и три мешка белой муки) и словно прикупил себе еще юности. — Лишь бы схитрить, а? Не вырос еще — а туда же!..
Что он имел в виду — все поняли сразу. На повторной атаке Полосатый Чапан немного пришел в себя и теперь легко отбивался от всех ударов Сатинового Чапана. Тогда последний включил хитрость: удерживая противника за воротник и упершись одной ногой ему в живот, он перебросил Полосатого через себя. Тот, однако, упал на бок.
— Все! — сказал Келдияр-супи. — Молодцы, настоящие пахлаваны, спасибо.
— Бросьте! — возмутился мулла Саттар. — Кураша никогда не видели?! Разве не тот победитель, кто кончит дустаманом?..(8)
Шариф с ним согласился и дал детям сигнал продолжить бой. Считающий себя победителем Сатиновый Чапан готов был от обиды расплакаться. Он ухватил левой рукой Полосатого за шею, и тот этим немедленно воспользовался: зажал протянутую руку правым локтем и тут же отвесил сбоку мощный крученый удар. Сатиновый рухнул на спину.
— Чисто! — вскричал Шариф. — Вот это победа! Вот он, дустаман! Настоящий чаржетимец!(9) Эй, Хайрулло! — позвал он, выглянув во двор. — Неси батыру мозговую кость.
Победитель подобрал с пола шапку, надел ее и стал с гордым видом в ожидании награды; его соперник бросился с плачем к отцу.
— Все, лишился матери, — хохотнула Зубай-байбича, дабы еще больше досадить мальчишке. Тот посмотрел на женщину влажными глазами и вдруг осклабился да ругнул ее не по-детски. Она лишь ухмыльнулась и двумя пальцами изобразила ножницы:
— Сейчас… обрежу, отцу меньше мучений: невесту искать не придется.
Мальчик шмыгнул на веранду, но тут же опять, вытянув шею, просунул голову в дверь и обозвал обидчицу так, как, по-видимому, научился у матери.
— Зубайка Косолапая, — вдобавок ко всему показал обидчице язык. Женщина угрожающе приподнялась со своего места — и мальчишка исчез окончательно; было слышно, как он убегает, громко топая ногами.
— Да, этот ребенок — яхия(10), вырастет с характером, — буркнул мулла Саттар.
— Садись к дяде Нормату, — сказал Шариф мальчику в полосатом чапане. — А вы, ака, подайте ему руку. Пускай теперь эти пацаны защищают честь чаржетимцев на соревнованиях…
Мальчик поначалу чувствовал себя скованно, однако, ободренный всеобщим расположением, приблизился к Нормату и опустился с ним рядом на пол.
— Ты чей? — ласково спросил Нормат.
— Эшонкула, — ответил мулла Саттар вместо пацана. — Пахлаван, плоть от плоти.
Нормат вспомнил здоровенного Эшонкула, своего ровесника и дальнего родственника; он ушел на войну в самом ее начале, с тех пор о нем не было никаких вестей.
Нормат потрепал мальчика по плечу:
— Будешь, будешь пахлаваном.
— Он уже сейчас — опора для матери! — вставил свое слово Шариф. — Когда старик Акбута сказал ему: «Отдай мне в жены свою маму, Масилу», он поджег хвост его ишаку…
Присутствующие сочувственно загалдели. (Видимо, обществом поступок мальчика был одобрен).
Юный пахлаван смутился еще больше: о нем говорят, его хвалят.
— Не видели… моего отца?
Нормат покачал головой. Ему захотелось как-нибудь подбодрить мальчика:
— Вернется! Вот запомни мои слова: этой же весной вернется, — сказал он серьезно, будто и сам в это поверил.
Победителю вручили огромную кость; он побежал во двор, чтобы похвастаться перед сверстниками.
После кураша беседа пошла по новому руслу: кто-то хвалил свое чадо, кто-то жаловался на детские болезни.
— Эй, Зубай-байбича, — мулла Саттар оторвал грудь от подушки и, приподняв краешек ковра, плюнул туда насваем(11). — Есть письмо от Уринбая?
— Да, дядя, пришло, — сказала Зубай-байбича, обрадовавшись вниманию. — Позавчера пришло. Работает на фабрике-заводе...
— Ого, высоко поднялся! — искренне удивился пастух Раджаб.
— Так в письме! Мне сын маленького Шарипа прочитал.
— Куда он метит, было ясно еще с колыбели, — вмешалась в разговор Кудурат-момо(12). — Все по-русски матерился. С русскими водниками в деревне, когда приезжали, только он говорить и мог. Однажды — я своими глазами видела — сам ихний начальник его по плечу хлопал и хвалил: «Чем по-русски говори лучше по-узбекски!»
— Это в каком смысле? — мулла Саттар поднял бровь: старуха, кажется, утратила способность внятно выражаться.
— Это значит, что он лучше говорит по-русски, чем по-узбекски, — с умным видом перевел Келдияр-супи.
— Ааа… — мулла покачал головой. — Тогда ему на заводе-фабрике самое место.
Нормату эти разговоры были в радость. Он ценил искренность и простоту односельчан; всем существом своим он чувствовал, как по ним соскучился, — за три года странствий по чужим землям. Разное перевидал, множество людей встретил, однако нигде не слышал таких речей, как в родной деревне. Сердце щемило от счастья.
— Эй, Келдияр-ака! — раздался голос Турсуна-гудж-гудж(13). — Усмирите уже своего сына, без конца матерится на моего… Ну, папе твоему перец на то самое место!.. Иди уже! …Щас засуну тебя к себе в штаны… Увидишь — не обрадуешься!
Со двора послышалась беготня: кто-то убегал, кто-то догонял.
— Хайруллабай, держите его, я ему в рот наплюю насваем. <…>
— Уф, вся провоняла! — послышался недовольный голос Бийди-момо, взявшей на себя роль главной поварихи и распорядительницы. Делая с раннего утра поручения невесткам и пытаясь контролировать процесс, она теперь, судя по голосу, наконец устала. — Бесстыжая, ребенку такое говоришь — он твоему сыну ровесник! Совсем совесть потеряли…
— Когда уже она уймется? — сквозь зубы процедила Зубай-байбича. — И ничего ей не скажи, сразу тряпкой получишь.
— …Пусть вернет половину калыма, что я за тебя давал, — это Шариф-бригадир крикнул жене, на целый день попавшей в кабалу к Бийди-момо.
Сердце Нормата постепенно оттаивало. Глядя, как живут его земляки, он вдруг поверил, что сможет не только залечить свои телесные раны, но и побороть недуги душевные. Подобно откровению хлынули надежды.
После полудня потянулся народ из соседних деревень. Начатое ради приличия торжество все больше походило на довоенные гульбища.
— Э, гулять — так гулять! — взвизгнула старуха Бостон; с утра она грела у печи остроугольние свои плечи (а заодно и слух грела стариковскими праздными разговорами). Бог знает откуда старуха вынула лопнувший бубен и стала бить по нему как попало, извлекая беспорядочные звуки, аккомпанируя своему высокому писклявому голосочку:
Под персиком свекровь моя-я-я
Давеча простудилася-я-я,
И только я, и только я
Как прежде, виноватая-я-я…
Мужчины заверещали от восторга. Дергаясь под ритм бубна, в центр вышла старуха Норби. Сбросив джелак(14), она, как птица, раскинула руки и принялась кружиться. Публика ликовала, щелкала пальцами, хлопала, топала, улюлюкала. Келдияр-супи засвистал мелодию, которой научился, когда ездил в город: «Чвик-чвик-чвику-у-у! Чвик-чвик-чвику-у-у!» Старуха Бостон запела другую частушку:
Под тутовником проехал
Мой миленочек родной,
Хрустнул сердцем, будто веткой —
На закате будешь мой!
Тут уже молодухи прильнули к окнам. За невестками потянулись и невесты... К тому времени веранда была вся в детворе. Ребята, словно малые птенцы, беззастенчиво хохотали над старой птицей, зачем-то пустившейся в пляс. <…>
…Души, до краев наполненные горем, изо всех сил старались отвлечься — хоть на один час, на одно мгновенье; потому и смеялись во весь голос, и радовались каждому слову, даже не слишком смешному и умному. И вдовы, и девицы открыто подкалывали Анзират, приобретшую с возвращением мужа «легкую походочку». Все, казалось, боялись только одного — что этот день кончится и придется возвращаться в свои дома, где одна только липкая память, ужас войны, одинокая хмурая жизнь.
Глоссарий узбекских слов
1. Пахлаван — традиционное именование борца в кураше.
2. Кураш (куреш) — традиционный вид борьбы у тюркских народов.
3. Чапан — традиционный ватный халат.
4. Палван — то же, что пахлаван.
5. Байбича — обращение к замужней женщине. Дословно — «жена бая».
6. Батыр — еще одно именование борца в кураше.
7. Супи — простонародное произношение слова «сўфи» (суфий или муэдзин). Здесь: намек на то, что предки Келдияра-супи были муэдзинами. Другое значение — «помощник муллы».
8. Дустаман — финал поединка; по правилам кураша победителем считается лишь тот, кто повалил противника на обе лопатки.
9. По преданию, село Терсота является одним из пяти-шести сел, созданных четырьмя братьями-сиротами («чоретим»). Поэтому жители окрестных кишлаков зовутся также чаржетимцами.
10. Яхия («яҳиё») — так говорят о шумном, строптивом человеке.
11. Насвай — в странах Центральной Азии вид некурительного табака, закладываемого под язык.
12. Момо — «бабушка».
13. Гудж-гудж («ғуж-ғуж») — прозвище болтливого человека.
14. Джелак — длинная тонкая одежда с открытым передом, которую надевают женщины в жаркое время года; облегченный вариант чапана.
-
 07 апреля07.04Азия Центральная, она же — центроваяКак стать глобальным игроком, не выходя из дома
07 апреля07.04Азия Центральная, она же — центроваяКак стать глобальным игроком, не выходя из дома -
 04 апреля04.04Осторожность или синдром вахтера?Почему казахстанцы требуют сурово наказать подростков за троллинг с флагом
04 апреля04.04Осторожность или синдром вахтера?Почему казахстанцы требуют сурово наказать подростков за троллинг с флагом -
 02 апреля02.04«Талибан» на пороге признания?Чего на самом деле ждут американцы от новых властей Афганистана и семейства Хаккани
02 апреля02.04«Талибан» на пороге признания?Чего на самом деле ждут американцы от новых властей Афганистана и семейства Хаккани -
 31 марта31.03ФотоRegeneration: весеннее обновлениеНа выставке молодых художников Узбекистана представлены новые имена
31 марта31.03ФотоRegeneration: весеннее обновлениеНа выставке молодых художников Узбекистана представлены новые имена -
 26 марта26.03Жирный, ленивый, подслеповатыйПочему спортивные победы не создают нацию чемпионов
26 марта26.03Жирный, ленивый, подслеповатыйПочему спортивные победы не создают нацию чемпионов -
 24 марта24.03ФотоВесны много не бываетКак в Ташкенте встретили Навруз
24 марта24.03ФотоВесны много не бываетКак в Ташкенте встретили Навруз